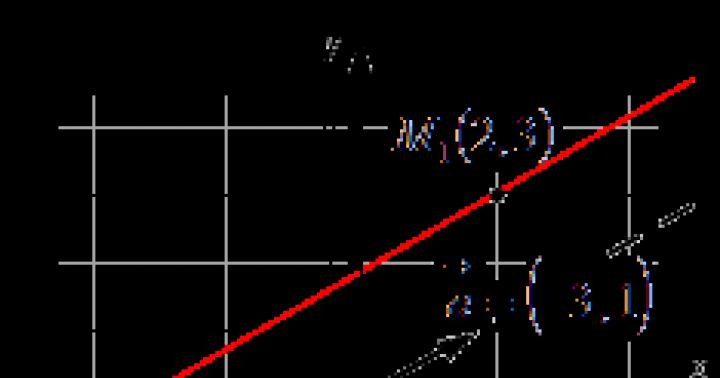Характерные идейные и художественные особенности "младосимволистского" течения и художественного метода символизма проявились в творчестве Андрея Белого (псевд., наст, имя – Борис Николаевич Бугаев; 1880–1934) – поэта, прозаика, критика, автора работ по теории символизма, мемуаров, филологических исследований. В философских и эстетических исканиях А. Белый был всегда противоречив и непоследователен. На первом этапе своего идейно-творческого развития он увлекался Ницше и Шопенгауэром, философскими идеями Вл. Соловьева, затем неокантианскими теориями Риккерта, от которых вскоре решительно отказался; с 1910 г. стал страстным проповедником антропософских взглядов философа-мистика Рудольфа Штейнера.
Под воздействием Ницше и Шопенгауэра Белый считал, что самая выразительная форма искусства, которая может охватить все сферы человеческого духа и бытия, есть музыка, – она определяет пути развития искусства нового времени, в частности поэзии. Этот тезис Белый пытался доказать своими "Симфониями", навеянными идеями Соловьева и построенными на сказочных фантастических мотивах, в основном средневековых легенд и сказаний. "Симфонии" полны мистики, предощущений, ожиданий, которые своеобразно сочетались с обличением духовного обнищания современного человека, быта литературного окружения, "страшного мира" мещанской бездуховной обыденности. "Симфонии" строились на столкновении двух начал – высокого и низкого, духовного и бездуховного, прекрасного и безобразного, истинного и ложного, реальности чаемой и являющейся. Этот основной лейтмотив развивается в многочисленных образных и ритмических вариациях, бесконечно изменяющихся словесных формулах и рефренах.
В 1904 г., одновременно со "Стихами о Прекрасной Даме" А. Блока, появился первый сборник стихов А. Белого "Золото в лазури". Основные стилевые особенности стихов этой книги определены уже в ее названии. Сборник наполнен светом, оттенками радостных красок, которыми пылают зори и закаты, празднично освещая мир, стремящийся к радости Вечности и Преображению. Тема зорь – сквозной мотив сборника – раскрывается в типично символистском ключе мистических ожиданий. И здесь, как и в "Симфониях", мистическая фантастика Белого сплетена с гротеском. Такое сплетение двух стилевых стихий станет характерной особенностью стиля А. Белого, поэта и прозаика, у которого высокое всегда граничит с низким, серьезное – с ироническим. Романтической иронией освещается в сборнике и образ поэта, борющегося с иллюзиями своего художественного мира (он переживает уже эпоху "разуверений"), которые, однако, остаются для него единственной реальностью и нравственной ценностью.
Стихи последнего раздела сборника – "Прежде и теперь" – предвосхищают мотивы, образы, интонации будущей его поэтической книги "Пепел". В поэзию А. Белого вторгается современность – бытовые сценки, зарисовки повседневности жизни, жанровые картинки из быта города.
Сильнейшее воздействие на развитие миросозерцания А. Белого оказала революция 1905–1907 гг. Миф Вл. Соловьева о пришествии Вечной Женственности не реализовался. В сознании поэта наступает кризис. События современности, реальная жизнь с ее противоречиями все более привлекают его внимание. Центральными проблемами его поэзии становятся революция, Россия, народные судьбы.
В 1909 г. выходит самая значительная поэтическая книга А. Белого – "Пепел". В 1920-х годах в предисловии к собранию своих избранных стихов Белый так определил основную тему сборника: "...Все стихотворения „Пепла” периода 1904– 1908 годов – одна поэма, гласящая о глухих, непробудных пространствах Земли Русской; в этой поэме одинаково переплетаются темы реакции 1907 и 1908 годов с темами разочарования автора в достижении прежних, светлых путей" .
Книга посвящена памяти Н. А. Некрасова. От мистических зорь и молитв, вдохновленных лирикой Вл. Соловьева, Белый уходит в мир "рыдающей Музы" Некрасова. Эпиграфом поэт берет строки из известного некрасовского стихотворения:
Что ни год – уменьшаются силы,
Ум ленивее, кровь холодней...
Мать-отчизна! дойду до могилы,
Не дождавшись свободы твоей!
По желал бы я знать, умирая,
Что стоишь ты на верном пути,
Что твой пахарь, поля засевая,
Видит ведреный день впереди...
Тема России, нищей, угнетенной, в стихах "Пепла" – основная. Но, в отличие от лирики Некрасова, стихи А. Белого о России наполнены чувством смятенности и безысходности. Первая часть книги ("Россия") открывается известным стихотворением "Отчаяние" (1908):
Довольно: не жди, не надейся –
Рассейся, мой бедный народ!
В пространство пади и разбейся
За годом мучительный год!
Века нищеты и безволья,
Позволь же, о родина-мать,
В сырое, в пустое раздолье,
В раздолье твое прорыдать:
<...>
Где в душу мне смотрят из ночи,
Поднявшись над сенью бугров,
Жестокие, желтые очи
Безумных твоих кабаков, –
Туда, – где смертей и болезней
Лихая прошла колея, –
Исчезни в пространство, исчезни,
Россия, Россия моя!
А. Белый пишет о деревне, городе, "горемыках" (так названы разделы книги), скитальцах, нищих, богомольцах, каторжниках, "непробудных" пространствах Руси. Поэт широко использует поэтические традиции народной лирики. В передаче народного стиля, ритма народного стиха он формально достигает предельной виртуозности. Но, в отличие от Блока, А. Белый не сумел выйти за пределы формальной стилизации, не усмотрел в народном творчестве его основного пафоса – жизнеутверждения и исторического оптимизма. Чувству роковой неприкаянности русской жизни соответствуют в стихах сборника заунывные ритмы стиха, тусклые, серые пейзажи. В этом сборнике нет сияющих красочных эпитетов, пронизывающих книгу "Золото в лазури"; здесь все погружено в пепельную серость полутонов.
Стихи А. Белого о России значительны по формальному мастерству, ритмическому разнообразию, словесной изобразительности, звуковому богатству. Но художественно они несоизмеримы со стихами А. Блока о Родине, написанными в то же время. Если раздумья Блока о России полны оптимистических ожиданий начала больших жизненных перемен, если для поэта во тьме всегда сияет свет, если в просторах родной страны он ощущает ветер грядущей битвы, то мысли А. Белого о России пронизаны чувством отчаяния, а представления поэта о будущем – мертвенная тишина могильных погостов.
Своеобразна (в отличие от Брюсова и Блока) по идейно- творческой трактовке и тема города: ей уделено в "Пепле" значительное место. Белый пишет о конкретных революционных событиях 1905 г. ("Пир", "Укор", "Похороны"), городской бытовой жизни, прежде всего о "призрачности" современного города. Среди городского маскарада призраков внимание поэта привлекает символ рока и революции – "Красное домино", образ, который станет одним из центральных в романс "Петербург".
В 1909 г. вышла книга стихов А. Белого "Урна". В предисловии к ней поэт писал, что если "Пепел – книга самосожжения и смерти", то основной мотив "Урны" – "раздумья о бренности человеческого естества с его страстями и порывами". Эта книга ориентирована уже па иные историко-литературные традиции – традиции Батюшкова, Державина, Пушкина, Тютчева, Баратынского. Белый предстает в книге как блестящий версификатор, но все это – стилизации, явление изощренного стилистического маскарада.
В области поэтики "Урна" – книга откровенно формального эксперимента. По меткому выражению одного из критиков, это своеобразное словесное "радение". Сборник был вершиной формальных поисков, искусных стилизаций, отразивших работу А. Белого над поэтикой русского стиха. Эго была попытка проверить теорию поэтической практикой. "Урной" завершился целый этап поэтического развития А. Белого.
В это же время А. Белый написал ряд статей, посвященных экспериментальному изучению ритма. Его опыты положили начало формальному изучению художественного текста ("Лирика и эксперимент", "Опыт характеристики русского четырехстопного ямба", "Сравнительная морфология ритма русских лириков в ямбическом диметре", "Магия слов"). На них во многом опиралась русская школа формалистов.
В 1910-е годы А. Белый-поэт не создает ничего принципиально нового. Он начинает работать над большой эпопеей, условно названной "Восток и Запад". Метафизический характер социально-исторических концепций А. Белого заранее определил неудачу книги. Написать эпопею он не смог, но создал повесть "Серебряный голубь" – о мистических исканиях интеллигента, пытающегося сблизиться с народом на сектантской основе, и роман "Петербург" – самое значительное свое произведение в прозе. В эти годы он пишет статьи о символизме ("Символизм", "Луг зеленый", "Арабески"), в которых подводит итог многолетним размышлениям об искусстве и делает новую попытку обосновать направление.
Эстетические взгляды А. Белого тех лет определили художественную специфику его прозы. А. Белый утверждал, что истоки современного искусства – в трагическом ощущении рубежа эпох человеческой истории. "Новая" школа знаменует кризис миросозерцаний. "Новое искусство" утверждает примат творчества над познанием, возможность лишь в художественном акте преобразовать действительность. Цель символизма – пересоздание личности и раскрытие более совершенных форм жизни. Символическое искусство в основе своей религиозно. А в трактате "Эмблематика смысла" Белый построил систему символизма на базе философии Риккерта. Он писал, что символизм для него – "религиозное исповедание", имеющее свои догматы. Символический образ, считал Белый, ближе к религиозному символизму, чем к эстетическому. Вне творческого духа мир есть хаос, сознание ("переживание") творит действительность и организует ее по своим категориям. Художник не только творец образов, но и демиург, создающий миры. Искусство есть теургия, религиозное деяние. Культура исчерпана, человечество стоит перед преображением мира и новым богоявлением. Таковы основные тезисы эстетической системы А. Белого 1910-х годов.
Прозаические произведения А. Белого этого времени – своеобразное явление в истории прозы. Белый перевернул синтаксис, затопил словарь потоком новых слов, совершил "стилистическую революцию" русского литературного языка, которая завершилась (в большинстве его опытов) неудачей.
В романе "Петербург", развертывая тему города, намеченную в "Пепле", А. Белый создал мир невероятный, фантастический, полный кошмаров, извращенно-прямых перспектив, обездушенных людей-призраков. В романе нашли свое законченное выражение основные идеи и художественные особенности творчества Белого предшествующих лет, осложненные теперь его увлечением мистической философией теософов. В нем отразилось и отрицательное отношение "младосимволистов" к городской культуре как культуре Запада, искусственно насажденной в России волею Петра, и отрицание ими самодержавно-бюрократического государства.
Петербург у Белого – призрак, материализованный из желтых туманов болот. В нем все подчинено нумерации, регламентированной циркуляции бумаг и людей, искусственной прямолинейности проспектов и улиц. Символом мертвенных бюрократических сил Петербурга и государства выступает в романе царский сановник Аполлон Аполлонович Аблеухов, стремящийся законсервировать, заморозить живую жизнь, подчинить страну бездушной регламентации правительственных установлений. Он борется с революцией, преследует людей с "неспокойных островов". В его образе проступают черты К. Победоносцева, известного консерватора К. Леонтьева, требовавшего "подморозить
Россию", щедринских героев. Но власть и сила Аблеухова призрачны. Он живой мертвец, обездушенный автомат императорской государственной машины. В заостренной гротескной сатире на абсолютизм, полицейско-бюрократическую систему царизма – сила романа, обусловленная связями его с критической линией русской литературы (Пушкина, Гоголя, Достоевского), образы которой трансформирует А. Белый.
В целом роман формируется ложной идеей Белого о смысле, целях, силах революции, противопоставлением истинности "революции в духе", как начала подлинного преображения жизни, неистинности социальной революции, которая может свершиться лишь после и в результате духовного преображения человека и человечества под влиянием мистических переживаний, мистически осознанного грядущего кризиса культуры. Используя принятую символистами символику цветов, А. Белый противопоставляет "Красному домино", социальной революции, – "Белое домино", символ чаяний подлинного (мистического) преображения мира.
В сюжетной схеме этого романа заключена сложная философско-историческая концепция А. Белого, его апокалипсические чаяния. И консерватор Аблеухов, и его сын- революционер, и Дудкин оказываются орудиями одного и того же "монгольского" дела нигилизма, разрушения без созидания.
После Октябрьской революции А. Белый ведет занятия по теории поэзии с молодыми поэтами Пролеткульта, издает журнал "Записки мечтателей" (1918–1922). В своем творчестве и после Октября он остается верен символистской поэтике, особое внимание уделяет звуковой стороне стиха, ритму фразы.
Из произведений А. Белого советского периода значительный интерес представляют его мемуары "На рубеже двух столетий" (1930), "Начало века. Воспоминания" (1933), "Между двух революций" (1934), в которых рассказывается об идейной борьбе в среде русской интеллигенции начала века, о предоктябрьской России.
- Белый А. Стихотворения. Берлин; Пг.; М., 1923. С. 117.
-------
| сайт collection
|-------
| Андрей Белый
| Урна (сборник)
-------
Посвящаю эту книгу Валерию Брюсову
Разочарованному чужды
Все обольщенья прежних дней…
Баратынский
Грустей взор. Сюртук застегнут.
Сух, серьезен, строен, прям -
Ты над грудой книг изогнут,
Труд несешь грядущим дням.
Вот бежишь: легка походка;
Вертишь трость – готов напасть.
Пляшет черная бородка,
В острых взорах власть и страсть.
Пламень уст – багряных маков -
Оттеняет бледность щек.
Неизменен, одинаков,
Режешь времени поток.
Взор опустишь, руки сложишь…
В мыслях – молнийный излом.
Замолчишь и изнеможешь
Пред невеждой, пред глупцом.
Нет, не мысли, – иглы молний
Возжигаешь в мозг врага.
Стройной рифмой преисполни
Вихрей пьяные рога,
Потрясая строгим тоном
Звезды строящий эфир…
Где-то там… за небосклоном
Засверкает новый мир: -
Там за гранью небосклона -
Небо, небо наших душ:
Ты его в земное лоно
Рифмой пламенной обрушь.
Где-то новую туманность
Нам откроет астроном: -
Мира бренного обманность -
Только мысль о прожитом.
В строфах – рифмы, в рифмах – мысли
Созидают новый свет…
Над душой твоей повисли
Новые миры, поэт.
Все лишь символ… Кто ты? Где ты?..
Мир – Россия – Петербург -
Солнце – дальние планеты…
Кто ты? Где ты, демиург?..
Ты над книгою изогнут,
Бледный оборотень, дух…
Грустен взор.
Сюртук застегнут.
Гори, серьезен, строен, сух.
Март 1904
Москва
Упорный маг, постигший числа
И звезд магический узор.
Ты– вот: над взором тьма нависла…
Тяжелый, обожженный взор.
Бегут года. Летят: планеты,
Гонимые пустой волной, -
Пространства, времена… Во сне ты
Повис над бездной ледяной.
Безводны дали. Воздух пылен.
Но в звезд разметанный алмаз
С тобой вперил твой верный филин
Огонь жестоких желтых глаз.
Ты помнишь: над метою звездной
Из хаоса клонился ты
И над стенающею бездной
Стоял в вуалях темноты.
Читал за жизненным порогом
Ты судьбы мира наизусть…
В изгибе уст безумно строгом
Запечатлелась злая грусть.
Виси, повешенный извечно,
Над темной пляской мировой, -
Одетый в мира хаос млечный,
Как в некий саван гробовой.
Ты шел путем не примиренья -
Люциферическим путем.
Рассейся, бледное виденье,
В круговороте бредовом!
Ты знаешь: мир, судеб развязка,
Теченье быстрое годин -
Лишь снов твоих пустая пляска;
Но в мире – ты, и ты – один,
Все озаривший, не согретый,
Возникнувший в своем же сне…
Текут года, летят планеты
В твоей несчастной глубине.
1904
Москва
М. А. Волошину
Снега синей, снега туманней;
Вновь освеженней дышим мы.
Люблю деревню, вечер ранний
И грусть серебряной зимы.
Лицо изрежет ветер резкий,
Прохлещет хладом в глубь аллей;
Ломает хрупкие подвески
Ледяных, звонких хрусталей.
Навеяв синий, синий иней
В стеклянный ток остывших вод,
На снежной, бархатной пустыне
Воздушный водит хоровод.
В темнеющее поле прыснет
Вечерний, первый огонек;
И над деревнею повиснет
В багровом западе дымок;
Багровый холод небосклона;
Багровый отблеск на реке…
Лениво каркнула ворона;
Бубенчик звякнул вдалеке.
Когда же в космах белых тонет
В поля закинутая ель,
Сребро метет, и рвет, и гонит
Над садом дикая метель, -
Пусть грудой золотых каменьев
Вскипит железный мой камин:
Средь пламенистых, легких звеньев
Трескучий прядает рубин.
Вновь упиваюсь, беспечальный,
Я деревенской тишиной;
В моей руке бокал хрустальный
Играет пеной кружевной.
Вдали от зависти и злобы
Мне жизнь окончить суждено.
Одни суровые сугробы
Глядят, как призраки, в окно.
Пусть за стеною, в дымке блеклой,
Сухой, сухой, сухой мороз, -
Слетит веселый рой на стекла
Алмазных, блещущих стрекоз.
1907
Петровское
Год минул встрече роковой.
Как мы, любовь лелея, млели,
Внимая вьюге световой,
Как в рыхлом пепле угли рдели.
Над углями склонясь, горишь
Ты жарким, ярким, дымным пылом;
Ты не глядишь, не говоришь
В оцепенении унылом.
Взгляни – чуть теплится огонь;
В полях пурга пылит и плачет;
Над крышею пурговый конь,
Железом громыхая, скачет.
Устами жгла давно ли ты
До боли мне уста, давно ли,
Вся опрокинувшись в цветы
Желтофиолей, рез, магнолий.
И отошла… И смотрит зло
В тенях за пламенной чертою.
Омыто бледное чело
Волной волос, волной златою.
Померк воздушный цвет ланит.
Сомкнулись царственные веки.
И все твердит, и все твердит:
«Прошла любовь», – мне голос некий
В душе не воскресила ты
Воспоминанья бурь уснувших…
И ежели забыла ты
Знаменованья дней минувших?
И ежели тебя со мной
Любовь не связывает боле, -
Уйду, сокрытый мглой ночной,
В ночное, в ледяное поле:
Пусть ризы снежные в ночи
Вскипят, взлетят, как брошусь в ночь я,
И ветра черные мечи
Прохладный свистом взрежут клочья.
Сложу в могиле снеговой
Любви неразделенной муки…
Вскочила ты, над головой
Свои заламывая руки.
1907
Москва
Над крышею пурговый конь
Пронесся в ночь. А из камина
Стреляет шелковый огонь
Струею жалящей рубина.
«Очнись: ты спал, и я спала…»
Не верю ей, сомненьем мучим.
Но подошла, но обожгла
Лобзаньем пламенно-текучим.
«Люблю, не уходи же – верь!..»
А два крыла в углу тенистом
Из углей красный, ярый зверь
Развеял в свете шелковистом.
А в окна снежная волна
Атласом вьется над деревней:
И гробовая глубина
Навек разъята скорбью древней…
Сорвав дневной покров, она
Бессонницей ночной повисла -
Без слов, без времени, без дна,
Без примиряющего смысла.
1908
Москва
В окне: там дев сквозных пурга,
Серебряных, – их в воздух бросит;
С них отрясает там снега,
О сучья рвет; взовьет и носит.
Взлетят и дико взвизгнут в ночь,
Заслышав черных коней травлю.
Печальных дум не превозмочь.
Я бурю бешеную славлю.
Когда пойду в ночную ярь,
Чтоб кануть в бархате хрустящем,
Пространство черное, ударь, -
Мне в грудь ударь мечом разящим.
Уснувший дом. И мы вдвоем.
Пришла: «Я клятвы не нарушу!..»
Глаза: но синим, синим льдом
Твои глаза зеркалят душу.
Давно все знаю наизусть.
Свершайся, роковая сказка!
Безмерная, немая грусть!
Холодная, немая ласка!
Так это ты (ужель, ужель!),
Моя серебряная дева
(Меня лизнувшая метель
В волнах воздушного напева),
Свивая нежное руно,
Смеясь и плача над поэтом, -
Ты просочилась мне в окно
Снеговым, хрупким белоцветом?
Пылит кисей кисейный дым.
Как лилия, рука сквозная…
Укрой меня плащом седым,
Приемли, скатерть ледяная.
Заутра твой уснувший друг
Не тронется зеркальным телом.
Повиснет красный, тусклый круг
На облаке осиротелом.
1908
Москва
Декабрь… Сугробы на дворе…
Я помню вас и ваши речи;
Я помню в снежном серебре
Стыдливо дрогнувшие плечи.
В марсельских белых кружевах
Вы замечтались у портьеры:
Кругом на низеньких софах
Почтительные кавалеры.
Лакей разносит пряный чай…
Играет кто-то на рояли…
Но бросили вы невзначай
Мне взгляд, исполненный печали.
И мягко вытянулись, – вся
Воображенье, вдохновенье, -
В моих мечтаньях– воскреся
Невыразимые томленья;
И чистая меж вами связь
Под звуки гайдновских мелодий
Рождалась… Но ваш муж, косясь.
Свой бакен теребил в проходе…
Один – в потоке снеговом…
Но реет над душою бедной
Воспоминание о том,
Что пролетело так бесследно.
Сентябрь 1908
Петербург
Чернеют в далях снеговых
Верхушки многолетних елей
Из клокотаний буревых
Сквозных, взлетающих метелей.
Вздыхающих стенаний глас,
Стенающих рыданий мука:
Как в грозный полуночи час
Припоминается разлука!
Непоправимое мое
Припоминается былое…
Припоминается ее
Лицо холодное я злое.
Пусть вечером теперь она
К морозному окну подходят
И видит: мертвая луна…
И волки, голодая, бродят
В серебряных, сквозных полях;
И синие ложатся тени
В заиндевевших тополях;
И желтые огни селений,
Как очи строгие, глядят,
Как дозирающие очи;
И космы бледные летят
В пространства неоглядной ночи.
И ставни закрывать велит…
Как пробудившаяся совесть,
Ей полуночный ветр твердит
Прости же, тихий уголок,
Тебя я покидаю ныне…
О, ледени, морозный ток,
В морозом скованной пустыне!..
1907
Париж
Я шел один своим путем;
В метель застыл я льдяным комом.
И вот в сугробе ледяном
Они нашли меня под домом.
Им отдал все, что я принес:
Души расколотой сомненья,
Кристаллы дум, алмазы слез,
И жар любви, и песнопенья,
И утро жизненного дня.
Но стал помехой их досугу.
Они так ласково меня
Из дома выгнали на вьюгу.
Непоправимое мое
Воспоминается былое…
Воспоминается ее
Лицо холодное и злое…
Прости же, тихий уголок,
Где жег я дни в бесцельном гимне!
Над полем стелется дымок.
Синеет в далях сумрак зимний.
Мою печаль, и пыл, и бред
Сложу в пути осиротелом:
И одинокий, робкий след,
Прочерченный на снеге белом, -
Метель со смехом распылит.
Пусть так: неметствует их совесть,
Хоть снежным криком ветр твердит
Моей глухой судьбины повесть.
Покоя не найдут они:
Пред ними протекут отныне
Мои засыпанные дни
В холодной, в неживой пустыне…
Все точно плачет и зовет
Слепые души кто-то давний:
И бледной стужей просечет
Окно под пляшущею ставней.
1907
Париж
Сергею Кречетову
Хотя бы вздох людских речей,
Хотя бы окрик петушиный:
Глухою тяжестью ночей
Раздавлены лежат равнины.
Разъята надо мною пасть
Небытием слепым, безгрезным.
Она свою немую власть
Низводит в душу током грозным.
Ее пророческое дно
Мой путь созвездьями означит
Сквозь вихрей бледное пятно.
И зверь испуганный проскачет
Щетинистым своим горбом:
И рвется тень между холмами
Пред ним на снеге голубом
Тревожно легкими скачками:
То опрокинется в откос,
То умаляется под елкой.
Заплачет в дальних далях пес,
К саням прижмется, чуя волка.
Как властны суеверный страх,
И ночь, и грустное пространство,
И зычно вставший льдяный прах -
Небес суровое убранство.
Январь 1907
Париж
Кругом крутые кручи,
Смеется ветром смерть.
Разорванные тучи!
Разорванная твердь!
Лег ризой снег. Зари
Краснеет красный край.
В волнах зари умри!
Умри – гори: сгорай!
Гремя, в скрипящий щебень
Железный жезл впился.
Гряду на острый гребень
Грядущих мигов я.
Броня из крепких льдин.
Их хрупкий, хрупкий хруст.
Гряду, гряду – один.
И крут мой путь, и пуст.
У ног поток мгновений.
Доколь еще – доколь?
Минуют песни, пени,
Восторг, и боль, и боль -
И боль… Не вольно – ах,
Клонюсь над склоном дня,
Клоню свой лик в лучах…
И вот – меня, меня
В край ночи зарубежный,
В разорванную твердь,
Как некий иней снежный,
Сметает смехом смерть.
Ты – вот, ты – юн, ты – молод,
Ты – муж… Тебя уж нет:
Ты – был: и канул в холод,
В немую бездну лет.
Взлетая в сумрак шаткий,
Людская жизнь течет,
Как нежный, снежный, краткий
Сквозной водоворот.
1908
Петербург
Сергею Соловьеву
Как минул вешний пыл, так минул страстный зной.
Вотще покоя ждал: покой еще не найден.
Из дома загремел гульливою волной,
Волной разымчивой летящий к высям Гайден.
Здесь представлен ознакомительный фрагмент книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста (ограничение правообладателя).
Если книга вам понравилась, полный текст можно получить на сайте нашего партнера.
Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев) родился в семье видного ученого-математика и философа-лейбницианца Николая Васильевича Бугаева, декана физико-математического факультета Московского университета. Мать, Александра Дмитриевна, урожденная Егорова, одна из первых московских красавиц. Вырос в высококультурной атмосфере "профессорской" Москвы. Сложные отношения между родителями оказали тяжелое воздействие на формирующуюся психику ребенка, предопределив в дальнейшем ряд странностей и конфликтов Белого с окружающими (см. мемуары "На рубеже двух столетий"). В 15 лет познакомился с семьей брата В. С. Соловьева М. С. Соловьевым, его женой, художницей О. М. Соловьевой, и сыном, будущим поэтом С. М. Соловьевым. Их дом стал второй семьей для Белого, здесь сочувственно встретили его первые литературные опыты, познакомили с новейшим искусством (творчеством М. Метерлинка, Г. Ибсена, О. Уайльда, Г. Гауптмана, живописью прерафаэлитов, музыкой Э. Грига, Р. Вагнера) и философией (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, Вл. Соловьев). Окончил в 1899 лучшую в Москве частную гимназию Л. И. Поливанова, в 1903 естественное отделение физико-математического факультета Московского университета. В 1904 поступил на историко-филологический факультет, однако в 1905 прекратил посещать занятия, а в 1906 подал прошение об отчислении в связи с поездкой за границу.
В 1903 окончил математический факультет Московского университета. Первый раз выступил со стихами в 1901 году, а первый сборник стихов - «Золото в лазури», Андрей выпустил в 1904 году. «Кровавые цветы» одиночества, сомнения были легко побеждены «радостями духовными», зовами «священной войны», верой в «Арго крылатого». Лирика щедро расцвечивалась «златосветными», «пурпурно-огневыми», «пьяняще-багровыми» красками.
В 1901 сдает в печать "Симфонию (2-ю, драматическую)" (1902). Тогда же М. С. Соловьев придумывает ему псевдоним "Андрей Белый". Литературный жанр "симфонии", созданный писателем [при жизни опубликованы также "Северная симфония (1-я, героическая)", 1904; "Возврат", 1905; "Кубок метелей", 1908], сразу продемонстрировал ряд существенных черт его творческого метода: тяготение к синтезу слова и музыки (система лейтмотивов, ритмизация прозы, перенесение структурных законов музыкальной формы в словесные композиции), соединение планов вечности и современности, эсхатологические настроения. В 1901-03 входит в среду сначала московских символистов, группирующихся вокруг издательств "Скорпион" (В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, Ю.К. Балтрушайтис), "Гриф" (С. Кречетов и его жена Н.И. Петровская, героиня любовного треугольника между ней, Белым и Брюсовым, отразившегося в романе последнего "Огненный ангел"), затем знакомится с организаторами петербургских религиозно-философских собраний и издателями журнала "Новый путь" Д.С. Мережковским и З.Н. Гиппиус. С января 1903 начинает переписку с А. А. Блоком (личное знакомство с 1904), с которым его связали годы драматической "дружбы-вражды". Осенью 1903 становится одним из организаторов и идейных вдохновителей жизнетворческого кружка "аргонавтов" (Эллис, С.М. Соловьев, А.С. Петровский, М.И. Сизов, В.В. Владимиров, А.П. Печковский, Э.К. Метнер и др.), исповедовавшего идеи символизма как религиозного творчества ("теургии"), равенства "текстов жизни" и "текстов искусства", любви-мистерии как пути к эсхатологическому преображению мира. "Аргонавтические" мотивы развивались в статьях Белого этого периода, напечатанных в "Мире искусства", "Новом пути", "Весах", "Золотом руне", а также в сборнике стихов "Золото в лазури" (1904). Крушение "аргонавтического" мифа в сознании Белого (1904-06) произошло под влиянием ряда факторов: смещения философских ориентиров от эсхатологии Ницше и Соловьева к неокантианству и проблемам гносеологического обоснования символизма, трагических перипетий неразделенной любви Белого к Л.Д. Блок (отразившихся в сборнике "Урна", 1909), раскола и ожесточенной журнальной полемики в символистском лагере. События революции 1905-07 были восприняты Белым поначалу в русле анархического максимализма, однако именно в этот период в его поэзию активно проникают социальные мотивы, "некрасовские" ритмы и интонации (сборник стихов "Пепел",1909).
1909-10 начало перелома в мироощущении Белого, поисков новых позитивных "путей жизни". Подводя итоги прежней творческой деятельности, Белый собирает и издает три тома критических и теоретических статей ("Символизм", 1910; "Луг зеленый", 1910; "Арабески", 1911). Попытки обретения "новой почвы", синтеза Запада и Востока ощутимы в романе "Серебряный голубь" (1910). Началом возрождения ("второй зари") стало сближение и гражданский брак с художницей А. А. Тургеневой, разделившей с ним годы странствий (1910-12, Сицилия Тунис Египет Палестина), описанные в двух томах "Путевых заметок" (1911-22). Вместе с ней Белый переживает и новый период восторженного ученичества у создателя антропософии Рудольфа Штейнера (с 1912). Высшее творческое достижение этого периода роман "Петербург" (1913; сокращенная редакция 1922), сосредоточивший в себе историософскую проблематику, связанную с подведением итогов пути России между Западом и Востоком, и оказавший огромное влияние на крупнейших романистов 20 в. (М. Пруст, Дж. Джойс и др.).
В 1914-16 живет в Дорнахе (Швейцария), участвуя в строительстве антропософского храма "Гетеанум". В августе 1916 возвращается в Россию. В 1914-15 пишет роман "Котик Летаев" первый в задуманной серии автобиографических романов (продолжен романом "Крещеный китаец", 1927). Начало Первой мировой войны воспринял как общечеловеческое бедствие, русскую революцию 1917 как возможный выход из глобальной катастрофы. Культурфилософские идеи этого времени нашли воплощение в эссеистическом цикле "На перевале" ("I. Кризис жизни", 1918; "II. Кризис мысли", 1918; "III. Кризис культуры", 1918), очерке "Революция и культура" (1917), поэме "Христос воскрес" (1918), сборнике стихов "Звезда" (1922).
В 1921-23 живет в Берлине, где переживает мучительное расставание с Р. Штейнером, разрыв с А. А. Тургеневой, и оказывается на грани душевного срыва, хотя и продолжает активную литературную деятельность. По возвращении на родину предпринимает множество безнадежных попыток найти живой контакт с советской культурой, создает романную дилогию "Москва" ("Московский чудак", "Москва под ударом", оба 1926), роман "Маски" (1932), выступает как мемуарист "Воспоминания о Блоке" (1922-23); трилогия "На рубеже двух столетий" (1930), "Начало века" (1933), "Между двух революций" (1934), пишет теоретико-литературные исследования "Ритм как диалектика и "Медный всадник" (1929) и "Мастерство Гоголя" (1934). Однако "отвержение" Белого советской культурой, длившееся при его жизни, продолжилось и в его посмертной судьбе, что сказывалось в долгой недооценке его творчества, преодоленной только в последние десятилетия.
Философ, ученый, поэт, математик, писатель и мистик уживались в нем, объединяясь в образе устремленного, проницательно-страстного человека-мыслителя. Но и поэт, и философ, и мистик, и все они, хоть и жили, укрывшись под одной черепной коробкой, все же, встречая друг друга, вступали в конфликты. Конфликты вели к катастрофам, то смешным, то трагичным, а Белый - страдал. Взрывы сознания (его выражение) в высшей степени были свойственны Белому. Когда он не взрывался, был спокоен, как все, то казалось: он притворяется. Его вежливость (я в этом уверен) была защитительной маской, помогавшей ему общаться с людьми, без того чтобы ранить или быть раненым. Жил в нем дух неприятия, дух протеста, и он отрицал, взрываясь сознанием. Это было понятным для тех, кто мог видеть: Белый жил в мире, отличном от мира людей, его окружавших, и мир обычный, принятый всеми, он отрицал. Время в мире Белого было не тем, что у нас. Он мыслил эпохами. Вот пример: он несся сознанием к средним векам, дальше - к первым векам христианства, еще дальше - к древним культурам, и перед ним раскрывались законы развития, смысл истории, метаморфозы сознания. Он уносился и дальше: за пределы культуры - в Атлантиду и, наконец, - в Лемурию, где только еще намечались различия будущих рас, и оттуда он несся обратно, всем существом своим, всем напряжением мысли переживая: от безличного к личному, от несвободы к свободе, от сознания расы к сознанию я. Еще с детства ему были свойственны такие полеты. Мир Белого вас поражал также ритмами. Да и сам он был - ритм. Все, что он делал: молчал, говорил, читал лекцию, ваял звуками стих нараспев, бегал, ходил - все чудилось вам в сложных, свойственных Белому ритмах. Все его гибкое тело жило тем, чем жил его дух. В тончайших вибрациях, в жестах рук, в положении пальцев оно отражало, меняясь, желания, мысли, гнев, радости Белого. (Между прочим, легко балансируя и без страха мог он ходить по перилам балкона на высоте многоэтажного дома.) И мыслил он ритмами. Мысль, говорил он, есть живой организм. Она как растение: ветвится и ширится. Мысли ищут друг друга, зовут, привлекают, сливаются или, враждуя, вступают в борьбу, пока побежденная, сдавшись, изменится или исчезнет из поля сознания. Созревая ритмически, мысль дает плод в свое время. Геометрическая фигура была для него формой, гармонично звучащей. Звук превращался в фигуру и образ. Красота - в чувство. Движение - в мысль. Говорил ли он об искусстве, о законах истории, о биологии, физике, химии - тотчас же он сам становился тяготением, весом, ударом, толчком или скрытой силой зерна, увяданием, ростом, цветением. В готике он возносился, в барокко - круглился, жил в формах и красках растений, цветов, взрывался в вулканах, в грозах - гремел, бушевал и сверкал (как Лир, такой же седой, безудержный, но сегодняшний, не легендарный. Лир безбородый, в неважных брючишках, в фуфайке, с неряшливым галстуком). И во всем, что с ним делалось, виделись ритмы, то строгие, мощные, гневные, то огненно-страстные, то вдруг тихие, нежные, и что-то наивное, детское чудилось в них. Когда он сидел неподвижно, молчал, стараясь себя угасить, чтобы слушать, вам начинало казаться: не танцует ли он? Он сделал открытие. Путем вычислений, исследуя стихосложение, он проникал в душу поэта и слышал, как он говорил, пульс и дыхание Пушкина, Тютчева, Фета в минуты их творчества. Он демонстрировал сложные схемы кривых, математически найденных им для ритмов стиха. Каждый стих выявлялся на схеме особо, рисуя конкретно смысл, содержание, идею стиха. Математика через ритм вела к смыслу. И часто кривая вскрывала в стихе содержание за содержанием. Белый гордился открытием и, демонстрируя новые схемы, горел, увлекался, метался по комнате, делал долгие паузы, исчезая куда-то, и снова кидался на схему, вычислял, сыпал цифрами, знаками, буквами, иксами, украдкой следя с огорчением за лицами слушавших: лица тупели, кивали и посылали ему виновато улыбки - понять было трудно. Лекции Белого вас удивляли. О чем бы он ни читал - все казалось неожиданным, новым, неслыханным. И все от того, как он читал. Как-то раз, говоря о силе притяжения Земли, он вскочил, приподнял край столика, за которым сидел, и, глядя на публику в зале, зачаровал ее ритмами слов и движений, а потом так сумел опустить приподнятый столик, что в зале все ахнули: столик казался пронизанным такой силой, тянувшей его к Центру Земли, что стало чудом: как остался он здесь, на эстраде, почему не пробил земную кору и не унесся в недра земные! И рядом со всем этим, тут же, на лекции, он так неудачно взмахнул рукой вверх, что черная шапочка (для чего-то сегодня надетая) взлетела на воздух, вызвав смех в публике, а он рассердился на публику. (Черная шапочка - хоть и странно, все же как-то понятно. Но однажды зайдя к нему, я застал его так: сидел он на стуле в углу съежившись, спрятав кисти рук в рукава, в фуфайке, конечно, и - в дамской шляпе с отделкой из серого маха. Я не мог не спросить его, что это значило, и он объяснил: Немощь, зябну, чихаю. Но все же осталось неясным: почему шляпа дамская?) Помню, на этой же лекции, вызвав рукоплескания слушавших, он (упустив из вида себя самого) стал аплодировать вместе со всеми, с улыбкой шныряя глазами в кулисах, по зале и сзади себя. С чувством юмора Белый как будто бы был не в ладах. Он не смеялся, когда смеялись другие, или смеялся один. Помню, увидев однажды карикатуру смешную в журнале на себя самого, он рассердился и стал карикатурно изображать карикатуру. Впечатление было гнетущим. Но все же беловский юмор - с сарказмом и болью - силен. Прочтите хотя бы главу, где описан вечер Свободной эстетики (Московский чудак), или встречу японца с профессором (Москва под ударом), и вы, если вообще принимаете Белого, будете, может быть, так же смеяться, как смеются любители шуток Шекспира. Белый жил в увлечениях, постоянно меняя их. То он собирал осенние листья, сортировал их часами по оттенкам цветов, то мешками возил разноцветные камушки с берега моря из Крыма в Москву, приводя своих близких в отчаяние. (Между прочим, камушки он собирал, появляясь на пляже в одном лишь носке - другая нога была голая.) То собирал обожженные спички и грудами складывал их у себя под кроватью. (Кто-то прознал, что он собирал их на случай, если в Москве не окажется топлива.) Интересен процесс его творчества. Схему романа он задумывал в общих чертах и затем наблюдал терпеливо им же вызванных к жизни героев. Они обступали его день за днем, развиваясь, ища отношений друг с другом, меняя интригу, вскрывая глубокие смыслы и, наконец, становясь символичными. Белый сам говорит, что порой произведение искусства представляет сюрприз для художника. Но такие сюрпризы были обычным явлением для Белого. Воображение художника такого масштаба, как он, обладает способностью соединять два процесса, противоположных друг другу. В нем самостоятельность образов сочетается с их подчиненностью воле художника. Белый, следя объективно за игрой этих образов, взглядом своим рождал в них свое, субъективное. Противоречие делалось кооперацией образов с автором. Он едва успевал регистрировать в памяти все, что жило, горело в его творческой мысли. Он знал: что часто вначале являлось ему как свалень событий, ряд фигур, атмосфер, мест, домов, улиц, комнат, безделушек на столиках, на этажерочках, полочках, - все вливалось само постепенно в интригу, в идею, давало им краски, становясь обертонами и полутонами и иногда поднимаясь до символа. Он как-то увидел в фантазии человечка, нескладного, странного, видом ученого (похож на профессора!). Он бежал за каретой с мелком, стараясь на черном квадрате убегавшей кареты формулку вычертить. Профессор бежал все быстрее, быстрее, быстрее! Но вдвинулась вдруг лошадиная морда громаднейшим ускореньем оглобли: бабахнула! Тело, опоры лишенное, падает: пал и профессор на камни со струйкой крови, залившей лицо. Когда Белый увидел все это, он не знал еще с точностью, что это будет московский чудак, любимый герой его, профессор Коробкин. Но бывали у Белого и страшные образы и факты, уже выходившие из сферы искусства. Ими он мучил себя и других. Много темного жило в душе его. Но Белого трудно судить, еще трудней осудить его, многоликого, жившего вечно в бунтарстве, в контрастах, в умственных трюках. Но и не осуждая, я все же скажу: чувство в нем далеко отставало от мысли. Мысль-огонь увлекала его в бездны сознания (его выражение) и подолгу держала его в отчуждении, в холодных и темных углах, тупиках, лабиринтах, где сердце молчит и где близки границы безумия. Все обостряя рассудком до искажения, он начинал ненавидеть им же созданный мысленный призрак. Любил ли он? Вероятно, любил, но, по-своему, силою мысли (не сердца). Он утверждал, и это ему заменяло любовь. Но он мог утверждать при желании: тьма есть сеет, и мог жить в этой тьме, полюбив ее мыслью, до нового трюка рассудка.
Поэтическое дарование Андрея Белого - особого рода. Взволновавшее автора как бы «пропущено» через накаленную страстью «плоть» слова. А Белый «проговаривает» мысль, переживание. На редкость свежим, неожиданным, даже парадоксальным становится образный строй. Ритмический рисунок строки или фразы, всего произведения. На этом уровне и проявляется предельность душевных порывов, самого автора прежде всего. В поэзии главные акценты доносят «малые», построчные образы, настоль они насыщены эмоциональными «словами» и неведомыми оттенками чувств.
В 1905 году Брюсов писал в статье «Священная жертва»: «Мы требуем от поэта, чтобы он неустанно приносил свои «священные жертвы» не только стихами, но каждым часом своей жизни, каждым чувством, - своей любовью, своей ненавистью, достижениями и падениями. Пусть поэт творит не свои книги, а свою жизнь. Пусть хранит он алтарный пламень неугасимым, как огонь Весты, пусть разожжёт его в великий костёр, не боясь, что на нём сгорит и его жизнь. На алтарь нашего божества мы бросаем самих себя. Только жреческий нож, рассекающий грудь, даёт право на имя поэта».
Не найдётся в русской литературе рубежа веков другого поэта, который бы с большей наглядностью и полнотой исполнили завет и требования Брюсова, чем это сделал Андрей Белый. Можно полагать, что эти строки и написаны Брюсовым с оглядкой на Белого, которого он за год до того, в рецензии на первый его стихотворный сборник «Золото в лазури», назвал «былинкой в вихре собственного вдохновения».
Для Белого, с его эмоциональной восприимчивостью и детской ненавистью, слова Брюсова (особенно в ранний период творчества) имели магическое значение. Суждения Брюсова об искусстве, его проповедь индивидуализма как единственной нравственно-эстетической системы, открывающей пути к выявлению в самом себе высшей (художественной) сущности, были для Белого непререкаемо авторитетными. Белый всё прощал Брюсову, даже явное предательство.
И Брюсов заслужил такое отношение. Едва ли не первым он оценил глубину, оригинальность и незаурядность дарования Белого, причём выделил в нём те черты, которые и составили впоследствии главное в натуре Белого как художника, философа, теоретика стиха. Уже в период появления сборника «Золото в лазури» Брюсов пишет о Белом как о «новаторе стиха и поэтического стиля», а в рецензии на этот сборник прозорливо замечает: «С дерзостной беззаветностью бросается он на вековечные тайны мира и духа, на отвесные высоты, закрывавшие нам дали, прямо, как бросались до него и гибли тысячи других отважных... Девять раз из десяти попытки Белого кончаются жалким срывом, - но иногда он неожиданно торжествует, и тогда его взору открываются горизонты, до него не виденные никем».
Ликующие мироощущение скоро, однако, поколебалось под наплывом «мистических ужасов» Андрей Белый начал искать иные стимулы одухотворения жизни. Тогда-то и появился образ Родины - околдованной красавицы. С её постижением связал свою судьбу поэт.
Сопереживания стране, нарастая до болезненного потрясения, вылилось в сокровенных стихах сборника «Пепел», посвящённого Некрасову. Тема пеплом подёрнутой Русской земли, её калек, арестантов, жандармов развернулась в обилии живых примет и ёмких символов. Открылся трагический мир человека, «прорыдавшего» свою муку «в сырое, пустое раздолье» России. Деревню он видел с «жестокими, жёлтыми очами кабаков», «немым народом» «злыми поверьями». А в городе - маскарад призрачного веселья вакханалья мертвецов-двойников. Слышны стоны: «исцели наши тёмные души», а по пустым залам богатого дома бежит «красное домино» с «окровавленным кинжалом" - предвестник гибели.
Лирический герой сборника принимает в своё сердце общие страдания:
Муки человеческой души становятся смертной болью физической - от падения «на сухие стебли, узловатые, как копья» или от давления тяжёлых могильных плит. Но подстерегающая смерть всё-таки не властна погасить ни желания пробуждения, ни страстных порывов личности:

«Самосжигание» приводит к духовному перелому в лирике сборника «Урна». О нём сам поэт сказал: мёртвое «Я» заключено здесь в урну, а «живое «Я» пробуждается к истинному». На этом пути заново пережита любовная драма Андрея Белого с женой драма и разрыв с ним:

Глубоко перечувствованы невосполнимые утраты: вместо восхода солнца в юности - «скудные безогненные зори», «безгрёзное небытие». В философских раздумьях о жизни, в обращениях к художникам-современникам, друзьям изживаются горькие разочарования. Трудно, но прорастает зерно надежды: «над душой снова - предрассветный небосклон»; «вещие смущают сны».
Случай Белого в русской литературе состоит в том, что у него, именно - у Белого, была некая приватная территория, на которой были обеспечены все им произносимые слова.
Потому что бывает же, скажем, так: есть слово, например, "нежность", а для некоего человека его не существует, потому что нет у него сейчас такой территории, где бы оно обеспечивалось смыслом. А вот Белый гулял по гигантской поляне, на которой были обеспечены все его слова. Причем эта поляна была, мало сказать, не общедоступной - безлюдной.
Из чего следует то, что постоянная проблема Белого - спроецировать эту поляну хоть на что-то мало-мальски обиходное. Понятно, что здесь абсурдно рассуждать о понятии художественности, поскольку локальные интерпретации текстов Белого зависят уже от особенностей того места, куда он пытается переместить свою речь.
Ясно, что для подобного перемещения всегда требуются некоторые внешние элементы - уже этого "куда проецируется" - на некий костяк из них речь и навешивается. См., например, "Мастерство Гоголя" и "Воспоминания о Блоке".
Расхождение внутреннего говорения и места его общественного воздействия всегда требует анализа этого расхождения: по сути дела получался всегда странный диссонанс между речью Белого и тем, во что она вываливается. Основные критики здесь будут всегда заняты именно что процессом проецирования. И таких щелочек и расщеплений в книге собрано много.
То есть, "Москва и "Москва" Андрея Белого" - вот именно это и есть, отслеживание проекций. 16 статей, занимающихся анализом проекций текста Белого на так или иначе маркированные пространства. Вторая часть - публикации (С.М. Соловьев, сам Белый, В.Г. Белоус, Е. Шамшурин, В.П. Абрамов, М.Л. Спивак, "Белый и литературная Москва 20-30-х годов" в качестве предуведомления к публикации П.Зайцева, "Из дневников 1925-1933 годов" (всякие житейские истории о Белом) - здесь уже имеет место попытка оценить проекцию в самом последнем, бытовом варианте.
Обычная методика оценки проекций текстов Белого основывается на тех же вещах, которые сам Белый - мучаясь проблемами натягивания своей речи на сколь-нибудь релевантные общественные связи - выставлял в качестве то ли смыслообразующих единиц, то ли, напротив, что-то ему лично о себе объяснявших.
Как-то: теоретико-множественные, с закосом в философствования работы его отца, вполне естественно протолкнувшие Белого к разнообразным изысканиям в области стиховедения и оценки литературы как таковой с неких как бы теоретических позиций; к дальнейшему доктору Штейнеру. Конечно, эти объяснения требовались вовсе не для написания прозы, а именно что для объяснения Б.Н. Бугаеву того, о чем столь непрерывно пишет Белый. В уже упомянутых случаях с Гоголем и Блоком вместо объяснений получалось снова нечто художественное.
Этим наклонностям Белого соответствует ряд материалов книги. "Время в структуре повествования романа "Крещеный китаец" (Н.Д. Александров), "Композиция ритма и мелодии в прозе Андрея Белого" (Х. Шталь-Шветцер), "Профессор Коробкин и профессор Бугаев" (Вяч.Вс. Иванов, там даже формулы Циолковского приводятся).
Самым интересным в сборнике, конечно, является блок статей, прямо соотносящихся с названием книги. То есть, сравнение "московской модели" Белого и города Москва как такового. "1911 год: к истокам "московского текста" Андрея Белого (Д. Рицци), "Старый Арбат" Андрея Белого в связи с традицией литературных панорам Москвы" (Р. Казари). "К семиотике пространства: "московский текст" во "Второй (драматической) симфонии" Андрея Белого" (Д. Букхарт), "Улицы, переулки, кривули, дома в романе Андрея Белого "Москва"" (Н.А. Кожевникова).
Результат же всей предпринятой кампании вполне очарователен - Москва Белого начинает производить только что не более реальное впечатление, нежели реальный город. Не удивительно, собственно, она ведь порождена единоличным творческим актом: градостроительная победа Белого закономерна. Ну, у него уже был опыт личного устроения "Петербурга".
Можно сказать, что в книге все кончается хорошо. Да, собственно, и не кончается - уже на первой трети понятно, что все эти выбранные позиции и точки для анализа являются лишь неким стеснительным предлогом для того, чтобы постоять рядом с АБ. Потому что все захлестывается просто текстом Белого - обильно цитируемым всеми авторами статей. Цитаты легко стирают все эти стеснительности и неловкости. Да и то: в объяснениях Белого самого Белого не переиграть.
Не очень-то хочется заканчивать рецензию на столь романтическом вздохе. Какая уж тут романтика: мало волнуют очередные достижения по части подтверждения того факта, что душа художника типа дышит чисто как хочет в натуре. Именно что все явные - невозможные по определению - попытки оценить степень адекватности проекций Белого в чуждую им среду никоим образом не касаются устройства авторской территории, той, где обеспечены все произнесенные Белым, а не Бугаевым слова. Хотя бы: обеспечены чем? Впрочем, градостроительские наклонности Белого выдают его способ попытаться примирить свой мозг с улицами за его черепом.
Так что противопоставление (сопоставление) мозга и улиц, произведенное в сборнике, более чем интересно. Самое же смешное в книге - ее аннотация, в которой все эти рассуждения подаются как некий свод материалов, посвященных городу Москве, "Москвоведение", словом. Что не очень точно, поскольку с Белым-то все просто: его мозг был раем - что, если не рай, место, где все имеет смысл?
В годы работы над «Петербургом» Андрей Белый был захвачен идеей человеческого самовоспитания, продолжения себя в себе. Новый стимул развития был почерпнут из антропософского учения Р. Штейнера (знакомство с ним состоялось весной 1912 года). По существу же всегдашнее стремление Андрея к изживанию явных и тайных пророков просто приобрело иное обоснование. На исходе 1916 года, как бы итожа свои раздумья о русской духовной культуре, он сказал: «Национальное самосознание..., которое в нас ещё дремлет, - вот лозунг будущего». И очень многое на этом пути сделал сам, разжигая «святую тревогу» о настоящем и будущем человека, народа, мира.
В годины праздных испытаний,
В годины мёртвой суеты -
Затверденей алмазом брани
В перегоревших углях - Ты.
Восстань в сердцах, сердца исполни!
Произрастай, наш край родной,
Неопалимый блеском молний,
Неодолимой купиной.
Из моря слёз, из моря муки
Судьба твоя - вина, ясна:
Ты простираешь ввысь, как руки,
Свои святые пламена -
Туда, - в развалы грозной эры
И в визг космический стихий, -
Туда, - в светлеющие сферы,
В грома летящих иерархий.
Список литературы:
Русская поэзия ХIХ - начала ХХ в. - М., 1990.
Большая Советская Энциклопедия - М., 1970.
Брюсов В., Далекие и близкие - М., 1988.
Долгополов Л. К., Андрей Белый и его роман «Петербург» - Л., 1986.
Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения "Крещенская ночь», «Собака», "Одиночество" (возможен выбор трех других стихотворений).
Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина.
Рассказы: "Господин из Сан-Франциско", "Чистый понедельник» ". Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе "Господин из Сан-Франциско". Психологизм бунинской прозы и особенности " внешней изобразительности". Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина.
Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ (углубление представлений).
Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Повести "Поединок", "Олеся", рассказ "Гранатовый браслет" (одно из произведений по выбору). Поэтическое изображение природы в повести "Олеся", богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема самопознания личности в повести "Поединок". Смысл названия повести. Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях "Олеся", "Поединок". Любовь как высшая ценность мира в рассказе "Гранатовый браслет". Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры Шеиной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. Куприна.
Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление представлений).
Леонид Николаевич Андреев
Рассказ «Иуда Искариот». Психологически сложный, противоречивый образ иуды. Любовь, ненависть и предательство. Трагизм одиночества человека среди людей. Традиции Достоевского в прозе Андреева.
Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Рассказы «Челкаш», "Старуха Изергиль". Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького Народнопоэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа "Старуха Изергиль".
"На дне". Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. "Три правды" в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы.
Литературный портретный очерк как жанр. Публицистика. «Мои интервью», «Заметки о мещанстве» «Разрушение личности».
Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные представления).
Серебряный век русской поэзии
Символизм
Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки русского символизма.
"Старшие символисты": Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб.
"Младосимволисты": А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов.
Валерий Яковлевич Брюсов . Слово о поэте.
Стихотворения: "Творчество", «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». Возможен выбор других стихотворений. Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова - урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля.
Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: "Будем как солнце", "Только любовь", "Семицветник" как выразительница"говора стихий". Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору ("Злые чары", "Жар-птица"). Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта.
Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Роман «Петербург» (обзорное изучение с чтением фрагментов). Влияние философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. Белого. Ликующее мироощущение (сборник "Золото в лазури"). Резкая смена ощущения мира художником (сборник "Пепел"). Философские раздумья поэта (сборник "Урна").
Акмеизм
Программные статьи и «манифесты» акмеизма. Статья Н.Гумилева "Наследие символизма и акмеизма" как декларация акмеизма. Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н.Гумилева. С. Городецкого, А Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др.
Николай Степанович Гумилев . Слово о поэте.
Стихотворения: «Жираф». «Озеро Чад», "Старый Конквистадор", цикл «Капитаны», "Волшебная скрипка», "Заблудившийся трамвай" (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию 20 века.
Футуризм
Западноевропейский и русский футуризм. Футуризм в Европе. Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, "самовитого" слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь Северянин и др.). кубофутуристы (В. Маяковский. Д, Бурлюк, В. Хлебников, Вас. Каменский), "Центрифуга" (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его представителями.
Игорь Северянин (И. В. Лотарев),
Стихотворения из сборников. "Громокипящий кубок". "Ананасы в шампанском", "Романтические розы", " Медальоны" (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта.
Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления).
Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений).
Александр Александрович Блок . Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения: «Незнакомка». «Россия», "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "В ресторане", (из цикла "На поле Куликовом»), "На железной дороге". (Указанные произведения обязательны для изучения).
"Вхожу Я в темные храмы... ", "Фабрика", "Когда вы стоите на моем пути". (Возможен выбор других стихотворений.)
Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: "Стихи о Прекрасной Даме". Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы "страшного мира", идеал и действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле "На поле Куликовом" и в стихотворении «Скифы». Поэт и революция.
Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию XX века.
Теория литературы. Лирический цикл. Верлибр (Свободный стих). Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений).
139, стр. «Посвящаю эту книгу Валерию Брюсову». В издательских гравированных обложках с изображением урны, венка и скорбящего Ангела. Формат: 18х11,5 см. Третий сборник стихов автора!

Библиографические источники:
1. The Kilgour collection of Russian literature 1750-1920. Harvard-Cambrige, 1959 - отсутствует!
2. Книги и рукописи в собрании М.С. Лесмана. Аннотированный каталог. Москва, 1989, №240.
3. Библиотека русской поэзии И.Н. Розанова. Библиографическое описание. Москва, 1975, №2200.
4. Тарасенков А.К. Русские поэты XX века, М., 1966, стр. 53.
5. Тарасенков А.К., Турчинский Л.М. Русские поэты XX века, М., 2004, стр. 104.

 В начале весны 1909 года вышла в свет 3-я книга стихов Андрея Белого - «Урна». В отличие от предыдущего стихотворного сборника с явно выраженными «некрасовскими мотивами», «Урна», - по выражению самого автора, книга философических раздумий и разочарованных страстей. Три ступени своей поэтической эволюции, обозначившиеся в трех вышедших книгах, А. Белый объясняет так:
В начале весны 1909 года вышла в свет 3-я книга стихов Андрея Белого - «Урна». В отличие от предыдущего стихотворного сборника с явно выраженными «некрасовскими мотивами», «Урна», - по выражению самого автора, книга философических раздумий и разочарованных страстей. Три ступени своей поэтической эволюции, обозначившиеся в трех вышедших книгах, А. Белый объясняет так:
«Озаглавливая свою первую книгу стихов "Золото в лазури", я вовсе не соединял с этой юношеской, во многом несовершенной книгой того символического смысла, который носит ее заглавие: Лазурь - символ высоких посвящений. Золотой треугольник - атрибут Хирама, строителя Соломонова Храма. Что такое лазурь и что такое золото? На это ответят розенкрейцеры. Мир, до срока постигнутый в золоте и лазури, бросает в пропасть того, кто его так постигает, минуя оккультный путь: мир сгорает, рассыпаясь Пеплом; вместе с ним сгорает и постигающий, чтобы восстать из мертвых для деятельного пути. «Пепел» - книга самосожжения и смерти: но сама смерть есть только завеса, закрывающая горизонты дальнего, чтоб найти их в ближнем. В «Урне» я собираю свой собственный пепел, чтобы он не заслонял света моему живому «я». Мертвое «я» заключаю в «Урну», и другое, живое «я» пробуждается во мне к истинному. Еще «Золото в лазури» далеко от меня... в будущем. Закатная лазурь запятнана прахом и дымом: и только ночная синева омывает росами прах... К утру, быть может, лазурь очистится»...

Книгу открывают четыре стихотворения, посвященные В. Я. Брюсову. В одном из них, названном «Созидатель», рисуется обобщенный портрет поэта-символиста - преобразо-вателя мира людей и мира идей:
В строфах - рифмы, в рифмах - мысли
Созидают новый свет...
Над душой твоей повисли
Новые миры, поэт.
Всё лишь символ... Кто ты? Где ты?..
Мир - Россия - Петербург -
Солнце - дальние планеты...
Кто ты? Где ты, демиург?..
В сборник «Урна» были включены и интимные лирические стихи, подводящие черту под его мучительными и неразделенными чувствами к Любови Дмитриевне. Теперь к нему, наконец, возвращался давным-давно забытый покой, но рана в душе заживала долго:
Устами жгла давно ли ты
До боли мне уста, давно ли,
Вся опрокинувшись в цветы
Желтофиолей, роз, магнолий.
И отошла... И смотрит зло
В тенях за пламенной чертою.
Омыто белое чело
Волной волос, волной златою.
Померк воздушный цвет ланит.
Сомкнулись царственные веки.
И всё твердит, и всё твердит:
А в это время мистицизм напрочь завоевывал Россию и умы наиболее просвещенных ее обитателей. Из дворянских и купеческих кругов к Белому шли авторитарные формы миросозерцания и религиозные настроения, легко переходившие в мистику. Политические взгляды этой среды подготовляли будущие выступления «кадетов» и «октябристов» с ярко выраженным национализмом и идеей великодержавности. Наконец, эта среда «устремлялась меблировать свою жизнь на западноевропейский лад и проводить свои досуги с изящной утонченностью» (Луначарский). Отсюда - культ красоты, эстетство. - Мистицизм у Белого обнаружился рано и остался навсегда. Влияние Владимира Соловьева сообщало мистицизму Белого характер эсхатологический. По временам у Белого вспыхивает раздражение против кружкового «мистериального наркоза», против «апокалипсических экстазов, если они преподаются в кабачках», и он призывает «с пути безумий к холодной ясности искусства, к гистологии науки», к «строгости теории познания». Но позитивистом Белый не стал. Крайний индивидуалист, Белый остро ощутил свое одиночество. Он пробует найти спасение в своеобразном народничестве и объявляет уже себя «пророком полей». Из общения с деревней Белый вынес сюиту стихотворений бытового «некрасовского» типа. Но полевая романтика не спасла «согбенного, бледного странника». Разочарование Белого в крестьянской России было тем острее, что он подходил к ней с отголосками барских, усадебных вкусов. Белый покидает деревню, вновь возвращаясь к привычной культуре столицы. Здесь он быстро перебрасывается от «экспериментальной эстетики» к умозрению. Он конструирует литературную теорию символизма, но символизм оказывается для Белого «не литературной школой, а новым мировоззрением, гармонически сочетающим религиозный, жизненный путь, искусство и спекулятивное мышление». «Смысл искусства - только религиозен». Отсюда новый порыв - в антропософию, но это будет чуть позднее. Белый знал Минцлову, что называется, сызмальства: встречал в доме друзей отца Танеевых. Дочь известного московского юриста, она была на двадцать лет старше и вроде бы ничем не выделялась среди остальных. Теснейшим образом судьбы Белого и Минцловой переплелись лишь в 1908 года, когда у Анны Рудольфовны неожиданно открылись медиумические способности. Помимо того, она зарекомендовала себя и как предсказатель. По общему и единодушному мнению, внешне она напоминала Е.П. Блаватскую - такая же грузная и апатичная, с магнетически притягивающим, почти что гипнотическим взглядом. Описывая ее, Белый не пожалел красок:
«Большеголовая, грузно-нелепая, точно пространством космическим, торичеллиевою своей пустотою огромных масштабов от всех отделенная,- в черном своем балахоне она на мгновение передо мною разрослась; и казалось: ком толстого тела ее - пухнет, давит, наваливается; и - выхватывает: в никуда! Я помню, бывало,- дверь настежь; и - вваливалась, бултыхаяся в черном мешке (балахоны, носимые ею, казались мешками); просовывалась между нами тяжелая головища; и дыбились желтые космы над нею; и как ни старалась причесываться, торчали, как змеи, клоки над огромнейшим лбиной, безбровым; и щурились маленькие, подслеповатые и жидко-голубые глазенки; а разорви их,- как два колеса: не глаза; и - темнели: казалось, что дна у них нет; вот, бывало, глаза разорвет: и - застынет, напоминая до ужаса каменные изваяния степных скифских баб средь сожженных степей. И казалася каменной бабой средь нас: эти «бабы»,- ей-ей, жутковаты!» Несмотря на столь нелестную характеристику, Минцлова умела привораживать к себе людей. Она объявляла себя вестницей запредельного мира, подобно Е.П. Блаватской (а в последствии и Е.И. Рерих), имела контакты с таинственными ноосферными посланцами, называемыми Учителями, и уверяла (не без успеха), что выполняет их волю. По их поручению и с их благословения Минцлова якобы должна бы-ла создать в России «Царство Духа». Одной из первых жертв гипнотических чар Минцловой в свое время стал Макс Волошин. Он познакомился с ней в Париже в 1903 году, куда Минцлова приехала на Теософский конгресс, и быстро попал под интеллектуальное и психологическое влияние новоявленной пророчицы. Вместе они даже совершили сакральное паломничество в Руанский собор. Минцлова говорила почти на всех европейских языках и, кроме того, в совершенстве владела санскритом, древнегреческим и латынью. Все свободное время она проводила в библиотеках, где знакомилась с такими древними и средневековыми текстами (в особенности герметическими, алхимическими и вообще - эзотерическими), о которых другие даже слыхом не слыхивали. Периодически Минцлова впадала в беспричинный страх, а несколько невидимых «эфирных людей», живших, как она считала, внутри нее или же вокруг ее тела, начинали наперебой говорить разными голосами. Судя по всему, она явля-лась либо информационным ретранслятором околоземной ноосферы, либо кандидатом для помещения в психлечебницу, что более вероятно… Волошин, чьи руки обладали целительными свойствами (он умел снимать боль, успокаивать припадочных и лечить от многих болезней), неоднократно приводил Минцлову в чувство и вполне отдавал себе отчет, с кем имеет дело. В одном из парижских писем он сообщал: «В Средние века она, конечно же, была бы сожжена на костре, как колдунья, и не без основанья. Она почти слепа и узнает людей только по ореолам вокруг головы, почти всегда умирает от болезни сердца, живет переводами Оскара Уайльда; нет ни одного человека, который, приблизившись к ней, остался бы вполне тем, чем он был». Не остался равнодушным и сам Макс. Полуслепой, грузной и беспокойной «женщине-вамп» поэт посвятил такие строки:
Безумья и огня венец
Над ней горел,
И пламень муки,
И ясновидящие руки,
И глаз невидящих свинец,
Лицо готической сивиллы,
И строгость щек, и тяжесть век,
Шагов ее неровный бег -
Всё было полно вещей силы.
Её несвязные слова,
Ночным мерцающие светом,
Звучали зовом и ответом.
Таинственная синева
Её отметила средь живших...
В 1909 и 1910 годах в оккультные тенета женщины-медиума попали Андрей Белый и Вячеслав Иванов. Последний - даже в большей степени. Потеряв горячо любимую жену Л. Д. Зиновьеву-Аннибал, он оставался вдовцом и, возможно, именно этим и привлекал незамужнюю Анну Минцлову. Да и по возрасту они более подходили друг другу. Хотя, быть может, создав «мистический триумвират» Белый - Иванов - Минцлова, роковая оккультистка рассчитывала, что со временем тройственный союз перерастет в тройственную семью по типу тех, которые постоянно возникали и распадались в разных комбинациях среди посетителей и завсегдатаев ивановской «Башни». А. Белому подобный исход, безусловно, не внушал ничего, кроме отвращения. Вячеслав Иванов также думал иначе, но по другой причине: его гораздо больше, чем «дама под пятьдесят», привлекала молодая падчерица Вера Шварсалон, дочь Л.Д. Зиновьевой-Аннибал от первого брака: она-то и стала второй женой «Вячеслава Великолепного». Между тем очередная размолвка произошла с Блоком. Еще в январе 1909 года, когда Белый приезжал в Петербург для чтения лекции, друзья вновь встретились в своем любимом ресторане, где и состоялось их вполне лояльное, но бескомпромиссное объяснение. В письме матери, переехавшей с мужем (отчимом Блока) на его новое место службы - в Ревель, Блок так описал свою встречу с Белым: «Третьего дня мы с ним несколько часов хорошо поговорили. Установили дружеские личные отношения и вражеские - литературные». Взаимоотношения обоих поэтов, наконец, в полной мере обрели то самое качество, которое по сей день принято обозначать одним словом «дружба-вражда». Но настоящий разрыв между Белым и Блоком произошел только спустя два месяца. Между тем судьба неумолимо подводила Борю Бугаева к сближению с Асей Тургеневой. Сестер Тургеневых - Анну (Асю), Наталью и Татьяну - он знал давно, с 1905 года, когда они еще девочками впервые приехали в Москву. После скоропостижной смерти отца, Алексея Николаевича Тургенева, мать трех сестер Софья Николаевна вторично вышла замуж за Владимира Константиновича Кампиони, служившего лесничим в Волынской губернии, и постоянно там проживала. Дочери росли под присмотром тети - М.А. Олениной-д"Альгейм, известной камерной певицы, муж которой, тоже известный музыкальный деятель Пьер (Петр Иванович) д"Альгейм (1862-1922) - обосновался в Москве, где организовал очень популярный в начале XX века «Дом песни». Покойный отец девушек А. Н. Тургенев приходился двоюродным племянником великому русскому писателю И. С. Тургеневу. В свою очередь, Софья Николаевна (урожденная Бакунина) являлась родной племянницей «отца анархии» Михаила Бакунина, хотя никогда не встречалась со своим знаменитым родственником. Таким образом, Ася Тургенева и ее сестры были двоюродными внучками сразу двух выда-ющихся деятелей отечественной истории и культуры. Все три сестры получили разностороннее образование и воспитание. Самой красивой из них считалась старшая На-талья; ее огромные глаза притягивали мужчин как омуты (глаза русалки, скажет А. Белый, - не то ангелица, не то ведьмочка; позже ему самому тоже придется испытать их чары). У нее не было недостатка в завидных ухажерах, многим она вскружила голову, но замуж вышла за журналиста Александра Михайловича Поццо (1882-1941), редактора московского журнала «Северное сияние». На Татьяне после долгого ухаживания женился Сергей Соловьев, а Асе суждено было стать спутницей жизни Андрея Белого. Отличаясь исключительной скромностью и молчаливостью, она, тем не менее, первой сделала шаг навстречу своей судьбе, предложив Белому позировать для портрета. Глаза восемнадцатилетней девушки с обвисающими пепельными волосами действительно умели заглядывать в душу. И сердце поэта дрогнуло от лучезарной улыбки. «Она мне предстала живою весною, - напишет он незадолго до смерти, - когда оставались мы с нею вдвоем, то охватывало впечатление, будто встретились после долгой разлуки; и будто мы в юном детстве дружили. И уже поднималась уверенность в первых свиданиях наших, что эта девушка в последующем семилетии станет самой необходимой душой». Увлечение Асей росло и крепло день ото дня. Первое объяснение произошло во время поездки в последнюю декаду апреля 1909 года в Саввинский монастырь близ Звенигорода. Они отправились туда впятером вместе со старшей сестрой Аси Наташей, ее будущим музеем А. Поццо и ближайшим другом Белого Алексеем Петровским и ос-тановились в монастырской гостинице. Отдав должное церковным службам, Борис и Ася, несмотря на далеко не детский возраст, увлеклись лазаньем по деревьям. На самой вершине одного из них и состоялось их решающее объяснение. Авдрей Белый окончательно и бесповоротно решил связать с ней свою судьбу. Спустя четверть века А. Белый заново пережил давнее чувство в 3-м томе своих незавершенных мемуаров:
«Мне запомнился наш разговор - на дереве, свисающем над голубым, чистым прудом, испрысканным солнцем; запомнились и отражения: вниз головой; из зеленого облачка листьев, в мгновенных отвеинах (так!) ветра,- я видел то локоны Аси, то два ее глаза, расширенных, внятно внимающих мне; и запомнился розовый шелк ее кофточки; вдруг ветви прихлынут к лицу: ничего; под ногами - двоился, троился отточенный ствол, расщепляемый легкой рябью; запомнились спины склоненных под нами Наташи и Поццо, сидящих глубоко внизу: на зелененьком бережку. В деревне мы прожили всего несколько дней; но они отделили меня навсегда от унылого прошлого; собрались мы уехать; но подали счет; оказалось же: заплатить-то и нечем; и пришлось А. Петровскому ехать в Москву за деньгами, оставив две пары «романтиков» в залог монахам, заведующим гостиницей». По возвращении в Москву Ася была вынуждена немедленно отправиться на Волынь, чтобы навестить умиравшую бабушку Бакунину, проживавшую у своей дочери (матери Аси). Оттуда новая возлюбленная А. Белого должна была вернуться в Брюссель, дабы закончить школу гравюры. Разлуке предстояло стать испытанием их любви на прочность. Пока что основным связующим звеном становились письма. Белый написал их превеликое множество - одно длиннее другого (иногда писал всю ночь напролет), но, к сожалению, ни одно из них не сохранилось; единственно же, что доказала за эти полтора года сама Ася, - это нелюбовь к эпистолярному жанру…
![]()
![]()